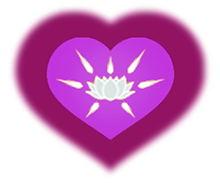“У Тебя надо просить, в Тебе искать, к Тебе стучаться: так, только так, ты получишь, найдёшь, и тебе откроют”.
Блаженный Августин Аврелий
С прочтения самых первых строк «Исповеди», возникает стойкое ощущение, что получил редкую возможность прикоснуться к сокровенной теме познания – к таинству человеческой души. Состояние, возникшее при этом, сравнимо с волнением археолога, с замиранием сердца, дрожащими руками, откапывающего уникальный исторический артефакт. Перед нами не художественное произведение, а свежий разрез человеческой души. Разговор с Богом. Голос сердца, пробивающийся к нам сквозь тяжёлые пласты времён.
И вот уже не автор «Исповеди», а мы сами проживаем рядом с ним все этапы взросления и обретения мудрости на жизненном пути. Сравнивая, находишь у себя удивительно много общего с жизнью этого мыслителя, хотя нас, современников, отделяет от времени его проживания более полутора тысяч лет.
Понимаем – Бог един, ибо источник един. Осознаём, что несём частичку Бога в своём сердце из жизни в жизнь, из воплощения в воплощение. И каждая жизнь выстраивается в цепочку событий, сопровождающих наше постепенное духовное взросление. Сказано: «Ведь только цепь жизней может дать причину жизней». Поэтому, надо суметь всё трудное пережить, преодолеть, пропустить через сердце – и детские страхи, и юношеские обиды, и грехи взрослой жизни, и болезни старости. Всё в жизни не случайно. Всё имеет смысл. Ибо пожинаем плоды прошлого, строим настоящее и будущее – это и есть причинно-следственная связь, Карма. И так из века в век, в беспредельности. В результате формируется наш характер, воля, уровень сознания.
Каким внутренним мужеством обладает автор «Исповеди», обнажая свои потаённые чувства и мысли? Воистину – разговор о наболевшем, разговор с Богом, Предстояние!
Послушаем, как Августин рассказывает о детстве: «Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует: слушаться тех, кто убеждал меня искать в этом мир успеха и совершенствоваться в краснобайстве, которым выслуживают людской почет и обманчивое богатство. Меня и отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза, но если был ленив к учению, то меня били; старшие одобряли этот обычай. Много людей, живших до нас, проложили эти скорбные пути, по которым нас заставляли проходить…»
О юности: «Что же доставляло мне наслаждение, как не любить и быть любимым? Только душа моя, тянувшаяся к другой душе, не умела соблюсти меру, остановясь на светлом рубеже дружбы; туман поднимался из болота плотских желаний и бившей ключом возмужалости, затуманивал и помрачал сердце мое, и за мглою похоти уже не различался ясный свет привязанности. Обе кипели, сливаясь вместе, увлекали неокрепшего юношу по крутизнам страстей и погружали его в бездну пороков. Возобладал надо мною гнев Твой, а я и не знал этого. Оглох я от звона цепи, наложенной смертностью моей, наказанием за гордость души моей. Я уходил все дальше от Тебя, и Ты дозволял это; я метался, растрачивал себя, разбрасывался, кипел в распутстве своем, и Ты молчал. О, поздняя Радость моя! Ты молчал тогда, и я уходил все дальше и дальше от Тебя, в гордости падения и беспокойной усталости выращивая богатый сев бесплодных печалей… Я в юности отпал от Тебя, Господи, я скитался вдали от твердыни Твоей и сам стал для себя областью нищеты».
О молодости: «Горе мне! И я осмеливаюсь говорить, что Ты молчал, Господи, когда я уходил от Тебя! Разве так молчат?! Кому, как не Тебе принадлежали слова, которые через мою мать, верную служанку Твою, твердил Ты мне в уши? Ни одно из них не дошло до сердца моего, ни одного из них я не послушался. Мать моя хотела, чтобы я не распутничал, и особенно боялась связи с замужней женщиной, — я помню, с каким беспокойством уговаривала она меня наедине. Это казалось мне женскими уговорами; мне стыдно было их слушаться. А на самом деле они были Твоими, но я не знал этого и думал, что Ты молчишь, а говорит моя мать. Ты через нее обращался ко мне, и в ней презрел я Тебя, я, ее сын, «сын служанки Твоей, раб Твой» Я не знал этого, и стремглав катился вниз, ослепленный настолько, что мне стыдно было перед сверстниками своей малой порочности. Я слушал их хвастовство своими преступлениями; чем они были мерзее, тем больше они хвастались собой. Мне и распутничать нравилось не только из любви к распутству, но и из тщеславия. Не порок ли заслуживает порицания? А я, боясь порицания, становился порочнее, и если не было проступка, в котором мог бы я сравниваться с другими негодяями, то я сочинял, что мною сделано то, чего я в действительности не делал, лишь бы меня не презирали за мою невинность и не ставили бы ни в грош за мое целомудрие.
…Поэтому не было здоровья в душе моей: вся в язвах, бросилась она во внешнее, жадно стремясь почесаться, жалкая, о существа чувственные. Но если бы в них не было души, их, конечно, нельзя было бы полюбить. Любить и быть любимым мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной. Я мутил источник дружбы грязью похоти; я туманил ее блеск адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей я жадно хотел быть изысканным и светским. Я ринулся в любовь, я жаждал ей отдаться. Боже мой милостивый, какой желчью поливал Ты мне, в благости Твоей, эту сладость. Я был любим, я тайком пробирался в тюрьму наслаждения, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры».
О зрелом возрасте: «Уже умерла моя молодость, злая и преступная: я вступил в зрелый возраст, и чем больше был в годах, тем мерзостнее становился в своих пустых мечтах. Я не мог представить себе иной сущности, кроме той, которую привыкли видеть вот эти мои глаза. Я не представлял Тебя, Господи, в человеческом образе: с тех пор, как я стал прислушиваться к голосу мудрости; я всегда бежал таких представлений и радовался, что нашел ту же веру в Православной Церкви Твоей, духовной Матери нашей. Мне не приходило, однако, в голову, как иначе представить Тебя. Я пытался — я, человек и такой человек — представить Тебя, высочайшего, единого, истинного Бога! Я верил всем сердцем, что Ты не подлежишь ни ухудшению, ни ущербу, ни изменению — не знаю, откуда и как, но я отчетливо видел и твердо знал, что ухудшающееся ниже того, что не может ухудшаться…»
Не будем забывать, Августин родился в третьем столетии первого тысячелетия. Ещё не остыла земля, помнящая огненную поступь Христа на своём теле, ещё живы в памяти людей сцены страданий Христа на Голгофе, его смерть и Воскрешение. А человечество с самоубийственной опрометчивостью продолжило, без остановки, неистовую гонку за эфемерными удовольствиями и радостями бытия. Тем более ценны такие исповеди праведников, подобных Августину, осознавших тупиковость жизни без Веры, жизни без Бога. Сказано: «Поэтому, Наш закон гласит – устремитесь к Высшему».
В «Исповеди» автор поднимает много вопросов, интересовавших человечество во все времена: о путях к Богу, об отрешении от материального, о борьбе с собой, о поиске счастья и радости, как Бог создал Землю и Небо. Обо всём этом он пишет живым страстным языком верующего человека. Обращаясь к Богу, искренне желает добраться до самой сущности этих тем, до их истоков.
Лейтмотив книги «Исповедь» просматривается в виде следующей мысли автора – что бы ни происходило с человеком на протяжении жизни – беды и радости, победы и поражения – всё происходит с ведома Господа. И, что особенно важно, всё во благо человека. Августин убедительно подтверждает эту мысль на конкретных жизненных примерах. Таким образом автор «Исповеди» учит не только не бояться жизненных препятствий, но даже радоваться им, как предоставленным возможностям для духовного роста и совершенствования. Не надо думать, что Господь покинул нас, или, что ещё хуже, наказывает нас. В реальности – недремлющее всевидящее Око Господне сопровождает и оберегает человека на его пути. Необходимо только внимательно всматриваться и вдумываться в происходящее с нами, даже если для этого понадобится время длиною в жизнь. В Учении сказано: «Пусть будут благословенны препятствия, ибо ими растём». Такое отношение к жизни поможет «вернуть нам нашу утерянную улыбку и предать огню лохмотья лживой обычности».
Никакие комментарии после прочтения «Исповеди» не заменят самостоятельного изучения этой книги. Окунаешься в неповторимую атмосферу глубокой древности, непроизвольно проникаешься возвышенным духом религиозных обрядов, слух улавливает давно забытые слова молитв, витающих в воздухе под куполом церкви, среди аромата священных благовоний. Всё это завораживает и начинает звучать внутри тебя, подобно торжественным аккордам церковного органа.
О жизни простых людей того времени мы мало узнаём из книги «Исповедь». Больше об этом расскажут картины Питера Брейгеля Старшего или Иеронима Босха. Тем не менее, историческая ценность произведения от этого не стала меньше. Ведь в ней описаны душевные страдания и путь к Богу высоко эрудированного, образованного человека своего времени (сам Августин преподавал риторику в учебных заведениях Карфагена и Рима).
В «Исповеди» многократно описываются случаи проявления отеческой заботы и любви Бога к человеку. Но как часто человек не ценит и не замечает этой любви. Автору удалось с психологической глубиной описать щемящее чувство вины, возникшее у него на сердце после преждевременной смерти матери. Почему, только потеряв любимого человека, начинаешь понимать сколь велика потеря? Не потому ль, что всё в этом мире подвержено закону: «Чтобы найти, надо потерять». Горький и суровый закон. Вот откуда наши не досказанные слова и не выплаканные слёзы по любимым!
Размышления Августина, заглядывающего в потаённые уголки своей памяти, порой уж очень извилисты. Мыслитель, несмотря на проявленную настойчивость в поиске Истины, кажется заблудившимся в сложном лабиринте собственного сознания. В своём изложении он опирается, в основном, на материалы Священного Писания. Больше ясности в поиске Истины древнему мыслителю могли бы внести философские труды И.Канта, К.Юнга, Учения Живой Этики (к сожалению, эти книги появятся гораздо позже).
Нельзя не заметить, что в своих обращениях к Господу во время молитв, Августин, ни в малейшей степени, не проявляет заносчивости и самомнения. Полная отрешённость от мирской суеты, глубина чувств, духовный накал! Вот оно Предстояние, вот оно самоотверженное Служение Господу. Так же огненно, представляется нам, молились во время многочасовых уединений Аполлоний Тианский, Серафим Саровский, Святая Ия. Возникает непроизвольный вопрос – способен ли современный человек на столь же пламенное Служение, столь же искреннюю Веру? Уподобимся ли этим Святым?
И вот сейчас перенесёмся в XIX век в Россию. Именно тогда была написана 6-ая симфония П.И. Чайковского (патетическая). Сравнивая два произведения – «Исповедь Блаженного Августина» и «6-ую (патетическую) симфонию П.И. Чайковского», на ум приходят удивительные мысли: перед нами разные эпохи, разные авторы, разные жанровые формы. Но, как много общего: тот же священный трепет в обращении к Господу Христу, та же красота и убедительность в формировании мыслеобразов у слушателя, та же гармония чувств, та же исповедь души. Финал своей 6-ой (патетической) симфонии Чайковский посвятил, именно, обращению к Христу, испытывая непреодолимое томление по Великому и Возвышенному. Послушаем эту музыку…