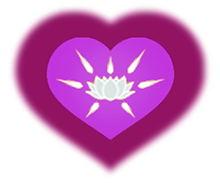Лев Николаевич Гумилевский родился 31 октября 1930-го в Москве, а спустя три года его семья перебралась на родину матери, в Беларусь: сперва в Ново-Борисов, а в 1944-м – в Несвиж. В 1946-1949 гг. талантливый юноша учился в местной студии изобразительного искусства, которой в то время руководил Михаил Севрук – белорусский живописец и график, представитель Виленской художественной школы. В свое время обвиненный в национализме Севрук был вынужден жить в небольшом райцентре (хоть и прежней столице империи Радзивиллов) и посвятить себя преподаванию. Позже в судьбе Гумилевского были такие именитые учителя, как Алексей Глебов и Андрей Бембель, но своего первого наставника Лев Николаевич вспоминал всю жизнь, а родному Несвижу он подарил несколько скульптур: композицию «Русалка», бюсты Юрия Несвижского, Николая Христофора Радзивилла (Сиротки) и Владислава Сырокомли на Аллее Памяти в старинном парке.
Восхождение Гумилевского к славе началось с работы над памятником Янке Купале в Минске. Он был открыт в 1972-м, когда Беларусь праздновала 90-летие со дня рождения Песняра (к слову, сам Гумилевский прожил 90 лет).
Гумилевского называют летописцем белорусской культуры: он – автор скульптурных образов Максима Богдановича, Николая Гусовского, Кастуся Калиновского, Адама Мицкевича, Михаила Огинского, Константина Острожского, Франциска Скорины, Владислава Сырокомли и других.
Идея создать памятник «народному адвокату» Франтишку Богушевичу появилась у Гумилевского еще в конце 1980-х, тогда же скульптор вылепил из глины метровую модель, которая хранилась в его мастерской.
И лишь в 2009-м, во время празднования Дня белорусской письменности в Сморгони, в Центральном парке открыли увеличенный в пять с половиной раз монумент национальному классику. Кстати, Гумилевский же стал автором мемориальной доски Богушевичу, установленной в 2010 году в вильнюсском Старом городе.
Осенью 2016-го неподалеку от минской ратуши появился памятник отцам белорусской классической оперы – композитору Станиславу Монюшко и драматургу Винценту Дунину-Марцинкевичу. В соавторстве с сыном Сергеем его также создал Лев Гумилевский и, говорят, именно он настоял, чтобы классики были объединены в одну скульптурную композицию – ведь изначально планировалось поставить отдельные памятники каждому из них. Известно, что некоторое время эти личности связывала дружба, однако в одном из последних писем Монюшко жене имеется намек на то, что у композитора с литератором возникли недомолвки… И вот полтора века спустя два гения снова ведут творческий диалог на лавочке со стилизованной в образе лиры спинкой, на площади, где в их бытность находился первый городской театр.
В одном из интервью Лев Николаевич признавался: «Каждое утро я захожу в свою мастерскую и здороваюсь с выдающимися деятелями, оставившими след в истории Беларуси: Франциском Скориной, Миколой Гусовским, Тадеушем Костюшко, Михалом Клеофасом Огинским, Адамом Мицкевичем, Владимиром Короткевичем и другими». Теперь Мастер среди них и, наверняка, общается напрямую. А его скульптуры говорят с нами в разных местах Беларуси, и не только: Кирилл Туровский с гомельчанами, Дунин-Мартинкевич с бобруйчанами, Евгения Янищиц с минчанами, Максим Богданович с белорусами Ялты, пытаясь донести до нас что-то очень важное для национального самосознания.

Остались в мастерской Гумилевского и неосуществленные проекты, например, скульптурная композиция, посвященная Независимости, или высеченная из камня конная фигура великого гетмана Константина Острожского – когда-нибудь они тоже заговорят с нами.
Источник: https://planetabelarus.by
Семья с историей
Чудесные работы заполняют всё свободное пространство сверху донизу в их общей мастерской в Минске, словно музейные экспонаты. Увековеченные в металле, дереве, камне, гипсе, пластилине писатели, артисты, музыканты, исторические деятели, прекрасные женщины, спортсмены, святые, литературные персонажи — неповторимый мир, созданный фантазией наших именитых земляков.
Многочисленные монументы авторства семейного тандема украшают площади, улицы, некрополи в Синеокой и за ее пределами. Памятники Янке Купале в Москве, Кириллу Туровскому в Гомеле, Винценту Дунину-Марцинкевичу в Бобруйске и (в паре со Станиславом Монюшко) у ратуши в Минске, Якубу Коласу в Китае, на могиле Максима Богдановича в Ялте, аллея бюстов в Несвиже, композиция «Балет» в сквере белорусского Большого театра…
31 октября Льву Николаевичу Гумилевскому исполнилось бы 95 лет. О его жизни и творческом пути, об их семье и о совместной работе корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал сын народного художника Беларуси Сергей.
— Вы, можно сказать, впитали любовь к национальной культуре с молоком матери. А вот ваш отец родился в Москве. Как он попал в Беларусь?
— Это целая история. Моя бабушка Франя Викентьевна, урожденная Павлюкевич, жила в деревеньке Жернелишки на Витебщине, была певчей в костеле в Видзах и сбежала из дома в 15 лет по причине довольно банальной: ее хотели выдать за старика. Села в Поставах на какой-то поезд и добралась до Москвы.
Какое-то время работала у Саввы Мамонтова, вышла замуж за парня-москвича, родила двоих детей. Но брак ее не задался, и она решила вернуться на родину. Взяла сыновей и села в поезд. Шел 1933 год. Ехали через Борисов, на станции она куда-то отошла, оставив детей с вещами, прибегает, а сумки с деньгами и след простыл…
— Обокрали?
— Конечно. Она в слезы. Мимо проходил какой-то мужичок и говорит, мол, у нас тут недалеко санаторий ЦК КПБ, иди к нам трудиться. Заработаешь и поедешь дальше. Бабушка согласилась, обжились там. Но началась война, старший сын ушел в партизаны, а она с младшим осталась при немцах. Однажды прибежал знакомый водитель и закричал: бегите скорей и прячьтесь, вас едут в Германию забирать!
Два года Франя с малым по лесам скитались, пока старший партизанил в бригаде Железняка. Его наградили за семь убитых немцев. А в 1944-м Белоруссию освободили, санаторий ЦК перевели из Борисова в Несвиж. По тем временам настоящий западный город, где люди даже на велосипедах катались. Их поселили в замке. Там бабушка и сорвала объявление с сообщением, что художник Севрук набирает детей в студию, и отвела туда моего отца.
— К Михаилу Константиновичу Севруку?
— Да. Папа боготворит его до сих пор. Сама студия находилась в здании ратуши. Михаил Константинович был великолепным мастером, бравшим уроки мастерства в Вильне у выдающегося белорусского и польского художника Фердинанда Рущица, 150-летие со дня рождения которого отмечается в декабре. Именно после общения с Севруком на всю жизнь осталось у отца особо теплое отношение к живописи.
Со временем он поступил в Минское художественное училище на отделение живописи и параллельно решил окончить вечернюю школу, чтобы получить диплом о среднем образовании. И уже тогда смог подать документы в театрально-художественный институт на скульптуру. Это был один из первых выпусков.
— Женился Лев Николаевич во время учебы в институте?
— Да, в 1961 г., но возраст был уже не совсем юным — 30 лет. А моя мама Валентина Николаевна моложе, причем училась в том же вузе на актерском отделении, а после окончания лет 10 работала в театре им. М. Горького. Я еще малым ходил на спектакли с ее участием.
Познакомились они при забавных обстоятельствах. Отцовский однокурсник попросил маму попозировать, пытался лепить ее портрет. Отец, стоявший рядом, высказал свои замечания, что-то ему не понравилось. Слово за слово, начали встречаться, а там сыграли свадьбу. Потом родился я. Жили мы первые годы в деревянном доме на Некрасова, вторую половину которого занимал известный скульптор Анатолий Аникейчик с семьей.
— А музой вашего папы маме довелось побыть?
— Да, он ее тоже лепил, этюды сохранились. В Могилеве стоит семиметровая статуя «Крылатая», ее образ в ней угадывается. А я портрет мамы из дерева вырезал.
После театра она пошла на телевидение и трудилась там всю жизнь ассистентом режиссера, потом помощником, режиссером и в последнее время делала вместе с коллегами программу «Вяскоўцы», с которой объехала всю республику. Им на международных конкурсах премии вручали.
— По удивительному совпадению ваша супруга тоже артистка, только балета…
— Да, Галина танцевала 20 лет, была пусть не примой, но солисткой в Большом театре. А сейчас в спорткомплексе «Динамо» на улице Даумана преподает хореографию гимнасткам-художницам, у нее хорошая классическая школа.
Она сама из Гомеля, ее в свое время мама отвела в балетную студию, находившуюся в замке Паскевичей. А потом одна из педагогов сказала, что у девочки есть способности, которые стоит развивать. Галю привезли в Минск, приняли в хореографическое училище, в то время примыкавшее к Большому театру. Самое интересное, как она рассказывала, что их привезли на автобусе и высадили на том месте, где сейчас стоит известная многим минчанам скульптура «Балет».
— Композиция с тремя танцовщицами?
— Совершенно верно. В 2008 г. проводилась реконструкция Большого, в рамках которой был объявлен конкурс на создание композиций «Опера» и «Балет». Мне хотелось его выиграть. И после объявления результатов мы с отцом приступили к работе. По нашей задумке, три балерины кружатся в танце, воздушными взмахами как бы приглашая зрителей на спектакли. Причем каждая олицетворяет одно из трех состояний: романтическое, героическое и лирическое.
— Вам позировала Галина?
— Эти фигуры — плод нашей фантазии. Конечно, при необходимости позировала и она, но в основном помогала очень точными советами, вплоть до мельчайших деталей, скажем, поворота головы или жестов кистей рук девушек. Делал свои замечания и Валентин Елизарьев. Ему хотелось, к примеру, чтобы пуанты соприкасались с подставкой одной точкой. Но работу полностью одобрил. По литью она оказалась одной из самых сложных, и нам было вдвойне приятно, что она получила признание и у рядовых зрителей, и у профессиональных артистов.
— Вы стали скульптором, вдохновившись примером Льва Николаевича, наблюдая за его работой?
— Мы раньше жили на улице Калиновского, там был лес. И мне в детстве очень нравилось находить корчи и ножом вырезать из них фигурки. К дереву у меня до сих пор особое отношение. Хотя вместе с отцом мы ездили и за город, этюды писали. Потом я учился в школе-интернате им. И. О. Ахремчика, которую окончил в 1981-м.
В театрально-художественном институте, куда поступил потом, заведующим кафедрой был Аникейчик. Он вел скульптуру и композицию, а рисунок преподавал Владимир Товстик. Педагоги замечательные, но, конечно, главным учителем для меня всегда оставался отец, помогавший мне советом и в мастерской, и дома.
— В одной только этой мастерской сотни полторы ваших работ, большинство из которых вряд ли будут кем-то приобретены или где-то установлены. Меж тем вы работаете без устали, планов у вас громадье. Что стимулирует этот подвижнический труд?
— Стимул? Это, наверное, потребность. Делаешь новое, места не хватает, оборудуешь полки в гараже, часть работ там стоит. Когда объявляют конкурсы, если тема близка и позволяет время, участвуем по возможности. Удалось выиграть или нет — модели остаются. А в общем-то для каждого из нас творчество — просто образ или стиль жизни, по-другому уже не можешь.
Источник: https://minsknews.by